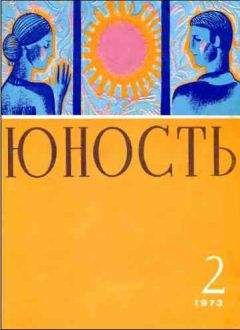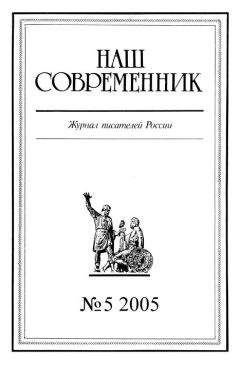Журнал Юность - Журнал `Юность`, 1974-7
Но ведь это всего лишь пригородная романтика, даже не транзитная, она далека от романтики того паренька, о которой сказано: «Но песню иную о дальней земле возил мой товарищ с собою в седле».
А сколько мы слышали самодовольно-романтических песен, где на все лады повторялось: мы романтики, мы уж такие, любим нехоженые тропы, — причем идея нехоженых троп выражалась самыми расхожими словами.
Подлинная романтика начинается не с рюкзака, а с доброты, не с электрички, а с бескорыстия.
Михаил Аркадьевич был добрый человек. Достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы в этом убедиться.
Есть лица: губы сложены в улыбку, а глаза смотрят на вас в упор, холодно, настороженно — не два глаза, а два окошечка бюро пропусков.
У Светлова улыбка начиналась у краешков глаз, они вдруг лучились морщинками, возникало нечто вроде сияния морщинок, отсюда улыбка расходилась по всему лицу, и тогда уже было ясно, что он сейчас скажет что-то неожиданное, необычное, веселое. Такая улыбка просто гарантировала, что ничего банального вы не услышите.
Светлов не был ни говоруном, ни остряком. Он всегда был спокоен и никуда не торопился. Жил без суеты.
За столом он не старался завоевать площадку. Никого не перебивал. Как говорят актеры, не тянул одеяло на себя. Паузы между его шутками были долгими, но тем больше его шуток ждали.
Совершенно не думал о том, как он выглядит. Я никогда не видел его костюм тщательно отутюженным. Светлов относился к пиджаку, как к пижаме. Мог запросто лечь на диван в костюме с галстуком. Есть книга «Анатоль Франс в халате». О Светлове такой книги нельзя написать: он выглядел одинаково на трибуне и дома.
И дом его был «домашний», хотя и без особой «домовитости».
Есть такой разряд показных квартир, пускай не очень распространенный, но есть. Это некая обитель, где все дышит творческим величием хозяина. Прежде всего бросается в глаза портрет, где он напряженно мыслит. Мыслит так, как и роденовскому «Мыслителю» не снилось. Нередко хозяин снимается на фоне корешков книг классиков, так что можно прочитать: «Пушкин», «Толстой», «Бальзак».
Не помню уже, о каком литераторе, увековечившем себя на фоне классиков, Виктор Шкловский отозвался: «Сидит, привыкает…»
Книг в такой показательной квартире много, но часто они заставлены столь многочисленными экзотическими, диковинными игрушками, зверюшками и финтифлюшками, что практически извлечь из-за них книгу трудно и хлопотно. Кажется, проще сходить в библиотеку.
Ничего этого не было в комнате Светлова, в его однокомнатной квартире у метро «Аэропорт». Были пустынные стены, одинокий портрет Маяковского, видавшая виды пишущая машинка, старенькое кресло.
На кухне тоже довольно пустынно, каким-то печальным айсбергом белел холодильник. История его, как рассказывают, такая. Сотрудники одного журнала давно собирались попросить у Светлова стихи. Вот они приезжают к нему на новую квартиру у «Аэропорта» и не знают, как лучше заговорить насчет стихов для публикации. Начинают издалека: не нужно ли вам чего для новой квартиры? Светлов говорит: да, нужно, никак не могу достать холодильник. А давайте, они предлагают, мы попробуем через редакцию вам помочь. Идут они к своему главному редактору, сочинили ходатайство: такой поэт — и без холодильника; и вот у Светлова на кухне стоит новый холодильник. Выждав какое-то время, сотрудники решают, что вот теперь они имеют полное моральное право попросить у Светлова стихи. Приезжают к нему и начинают деликатный разговор: ну, как, мол, Михаил Аркадьевич, холодильник, покажите, что вы в нем храните. Светлов говорит: «Пожалуйста», — ведет их на кухню, открывает холодильник, и они видят: он совершенно пуст, только что-то черное лежит, а Светлое радостно восклицает:
— О! Так вот где я забыл футляр от очков!
Кроме этого футляра, в холодильнике ничего не было.
Романтика Светлова — веселое пренебрежение к быту, комфорту, уюту. Он не говорил: «Мой дом — моя крепость». Скорее он мог бы сказать: будьте здесь как дома, делайте, что хотите. У него было высшее гостеприимство: он, хозяин, был похож на скромного гостя, который отводит роль хозяина тому, кто к нему пришел.
Светлов был одним из самых остроумных людей, каких я встречал. Нередко бывает так, что чувство юмора не распространяется у человека на него самого. Есть у меня один такой знакомый. В разговоре он непрерывно шутит, просто мечет остроты, каламбуры, дает, что называется, остроумную игру слов, щедро делится своими излюбленными, отработанными экспромтами. Но вот вы, поддавшись этому тону, слегка проехались на его счет. Сразу же его лицо каменеет. Он становится похож на свой собственный бюст. Чувство юмора словно вырубается рубильником. Он холодно, «отключенно» осведомляется: «А что вы, собственно, хотите этим сказать?» А вы уже ничего не хотите.
В смысле чувства юмора такие люди похожи на грозный дальнобойный танк, который оказывается беспомощным, когда к нему подбегают вплотную.
Светлов к себе относился легко, весело, иронично. Хочется даже сказать — беззаботно. Михаил Аркадьевич как будто не помнил, что он и есть Светлов, тот самый, который написал «Гренаду» и «Каховку».
Почти никогда не рассказывал он о своем творчестве. Не мог сказать: «мое творчество», «мой писательский путь», «мое мышление в образах обычно начинается с того…» и т. д. Не делился писательскими планами, не рассказывал, ни как он творил, ни кал воевал. А если говорил, то чаще так:
— Я хочу написать «Записки охотника»… выпить…
Или:
— Алё. Это Светлов говорит. Я здесь накропал стихи и хочу вам почитать. Знаете, зачем? Чтобы вы определили, не начало ли это менингита?
Как-то он сказал, что на его доме будет повешена мемориальная доска, где напишут: «Здесь жил и никогда не работал М. Светлов».
Поэт Сергей Наровчатов рассказывает:
— Однажды я пришел в клуб литераторов с очень красивой девушкой. Мне захотелось похвалиться перед Светловым. Я сказал: «Вот смотрите, какая красивая. Правда, картинка?» Михаил Аркадьевич улыбнулся: «Старик, я не знал, что ты стал таким передвижником».
Одному художнику Светлов сказал:
— Вы художник? А вы не можете мне нарисовать десять рублей?
Когда началась Отечественная война, многие писатели сразу же были приписаны к фронтовым редакциям, надели военную форму. И вот в самые первые дни войны сидят они в ресторане Дома литераторов, у всех вид боевой, как будто даже пропахли порохом, хотя еще никто не воевал. На всех форма сидит ладно и складно. Входит Михаил Аркадьевич, идет шаркающей походкой, он тоже в военной форме, но она на нем не сидит, а скорее висит. Все враз повернули головы. Он почувствовал, что своим сугубо штатским видом портит батальный пейзаж, и тихо спросил:
— Вы что, смотрите на меня и не верите в победу?
Я никогда не видел Светлова торжественным, многозначительным. Пресловутое чувство локтя выражалось у него не в том, что он норовил локтем отпихнуть соседа. И вообще не «норовил». Не был ни хваталой, ни устроялой. И когда решали, кого позвать, пригласить, премировать, делегировать, о нем вспоминали после многих других.
На одном роскошном банкете стол был богато сервирован, разнообразной была «разблюдовка». Светлова спросили, отчего он так мало ест.
— А я люблю, чтобы селедка лежала на газете.
Один критик стал жаловаться Светлову на литераторов, которые живут прошлыми заслугами. Давно ничего не пишут, а хлопочут, шумят. Не замечают, что как писатели они уже давно нe существуют.
Светлов:
— Мало того. Между ними еще идет борьба за несуществование.
В некоторых воспоминаниях о Светлове говорится так: он был непримиримым ко всему плохому, яростно ненавидел, боролся, гневно высмеивал и т. п. Мало похоже на Светлова… Непримиримость не его отличительное качество. Он был мягким, легким, простым человеком. И злу он сопротивлялся не прямым действием, а скорее самим своим существованием. Его стихия не сатира, а юмор. Причем юмор не выделенный, не отобранный, не «специализированный» юмор анекдота, дежурной остроты, но юмор как воздух, который вас окружает. Юмор интонации, намека. Очень дружеский.
Вот еще характерная особенность: все, кто занимается Светловым, знал его, писал о нем, — все они (или почти все, за самым небольшим исключением) дружны между собой. Семен Гушанский, Лидия Либединская, Яков Хелемский, Лев Славин, Лев Озеров, Нина Федосюк, Марк Соболь, Лев Шилов… Когда они собираются, к ним как будто незаметно подсаживается Михаил Светлов. И начинают вспоминать, что он сказал, что сделал, как пошутил.
— А помните, Михаила Аркадьевича угостили кумысом, он выпил и говорит: это надо закусывать вожжами.
— А как он вошел на заседание, кто-то ему крикнул: «Миша, дай папиросу». А он: «Надолго?»
— А то еще мы сидели в редакции, сочиняли частушки для капустника. Появляется Светлов: что это вы сочиняете? Мы жалуемся: вот мы, не поэты, сочиняем частушки, а вы, поэт, не помогаете. Он говорит: пожалуйста! О чем? Мы говорим: у нас в редакции есть сотрудница Вера, которая выступает на всех летучках, говорит долго и занудно.